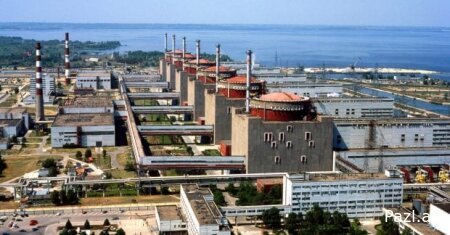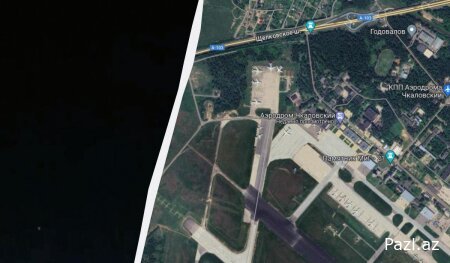Выступление популярной азербайджанской певицы Нуры Сури с резкой критикой системы образования страны вызвало широкий резонанс. Артистка, чья профессиональная сфера далека от политики, коснулась вопросов, которые на самом деле волнуют тысячи семей.
Поводом стали результаты вступительных экзаменов 2025 года: из 88 756 абитуриентов студентами стали лишь 57 236 человек, а 31 520 - остались за пределами университетских аудиторий. Среди них и те, кто набрал от 500 до более чем 600 баллов - показатель, который в прошлые годы считался достаточным для поступления.
В своём посте в Facebook певица обозначила сразу несколько проблем. Это и сложность процесса выбора и кодирования специальностей; и необходимость обращаться к платным консультантам, чтобы разобраться с системой и высокие расходы родителей на подачу заявлений. Параллельно - вопрос призыва в армию в 18 лет, который мешает многим молодым людям продолжить образование.
"Почему никого не беспокоит, что даже те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты? Что это за система?", - спрашивает артистка, подчёркивая, что её возмущение продиктовано гражданской позицией, а не личными интересами. Действительно, поднятые ею вопросы, что называется, у всех на устах.
Тут необходимо напомнить, что современная модель поступления в вузы Азербайджана была введена в начале 1990-х годов, вскоре после обретения независимости. До этого действовала советская система - вступительные экзамены принимали сами университеты, что сопровождалось высоким уровнем коррупции и кумовства.
Чтобы минимизировать человеческий фактор и гарантировать равные условия для всех, было создано Государственное экзаменационное центр (ГЭЦ), возглавляемый Малеикой Абасзаде. Его задача - проводить централизованные тесты, где абитуриент получает объективный результат, а компьютер автоматически распределяет его по выбранным направлениям.
Эта модель стала своего рода «визитной карточкой» Азербайджана и долгое время считалась одной из самых прозрачных на постсоветском пространстве. Многие страны бывшего СССР пошли по схожему пути. В частности, Россия ввела Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который также вызывает споры - его критикуют за «натаскивание» и стресс, но он уменьшил коррупцию. Казахстан использует ЕНТ (Единое национальное тестирование)- аналогичный централизованный экзамен. Соседняя Грузия после Революции роз внедрила Единые национальные экзамены, что стало важным антикоррупционным шагом.
Везде эта система решала одну задачу: убрать «человеческий фактор» при поступлении. Но в то же время она порождала новые сложности - рост конкуренции, стандартизацию знаний и социальное неравенство. Но, как обычно бывает, нередко то, что теоретически выглядит правильным, в реальности имеет нюансы.
В этой связи и история 17-летней Егяной Исмайыловой стала показательным примером. Девушка набрала 518 баллов, но не смогла поступить на желаемое направление «перевод с немецкого языка». Если раньше проходной балл был 470–480, то в этом году он превысил 550. Даже такие традиционно «непопулярные» специальности, как философия, поднялись с 240 до 380 баллов.
Е.Исмайлова сознательно отказалась от компромиссов и решила: либо то, что ей интересно, либо ничего. Теперь она планирует уехать в Германию, чтобы продолжить обучение там. Этот кейс иллюстрирует, как существующая система «выдавливает» мотивированных и талантливых школьников за границу.
В обществе закономерно возникает вопрос: кого считать ответственным за кризис доверия к системе? В этой связи отмечу, что министр образования Эмин Амруллаев отвечает за стратегию, реформы и общее развитие системы. Его ведомство активно внедряет цифровизацию и новые стандарты, но часто сталкивается с критикой за оторванность от реалий.
Малеика Абасзаде, руководитель ГЭЦ, олицетворяет экзаменационную систему с 1990-х. Её сторонники называют её гарантом прозрачности, противники - человеком, который не желает менять устаревшие правила.
Справедливости ради, проблема не в конкретных личностях, а в том, что система перестала соответствовать современным запросам общества. Повышение проходных баллов, сложность кодирования, финансовые барьеры и армейский вопрос - всё это отражает неэффективность управленческих решений.
Если ситуация не изменится, Азербайджан может столкнуться с рядом негативных явлений. Например, будет иметь место отток талантливой молодёжи за границу (brain drain), как в случае с Егяной Исмайыловой. Будет иметь и рост социального недовольства, ведь многие семьи вкладывают значительные средства в подготовку детей. А главное- будет иметь место снижение доверия к государственным институтам - система, призванная быть честной, начинает восприниматься как несправедливая.
Так что, Нура Сури права в том, что поднятые ею вопросы - это не каприз "звезды" , а отражение общественного недовольства. Система, которая когда-то считалась образцовой, постепенно теряет гибкость и способность отвечать на вызовы времени.
Сегодня стоит не столько спорить, кто виноват - министр образовании или глава ГЭЦ,- сколько понять: в нынешнем виде экзаменационная модель нуждается в глубокой модернизации. В противном случае, Азербайджан рискует потерять целое поколение молодых людей, которые могли бы стать основой интеллектуального и экономического будущего страны.